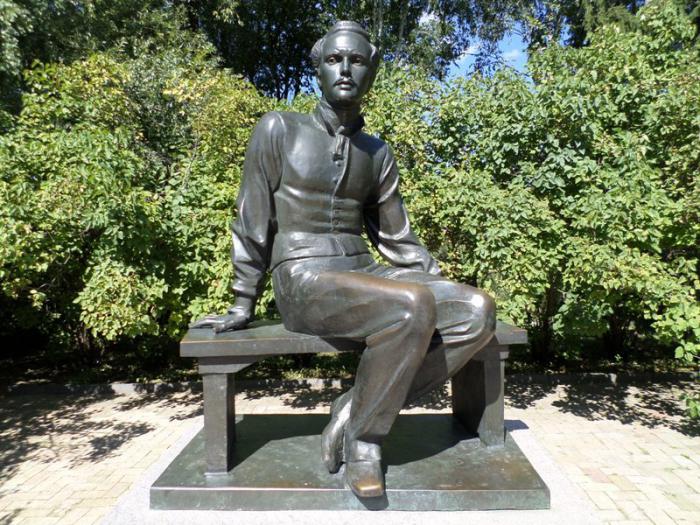«Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу…» Часть вторая

Николай Головкин
27 июля День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), 180 лет со дня гибели
***
«Нищий» – одно из пророческих стихотворений Михаила Юрьевича! Лермонтов – как тот безвестный нищий, уже в юности он провидел свою трагическую судьбу.
Да, Россию, где появился на свет ещё один гений, по-прежнему называли Святой Русью, а царя помазанником Божиим, Отечество наше, словно святую обитель, почитали христианские народы, и Россия защищала их на Балканах и Кавказе.
Но, с другой стороны, Россия, где многое зависело от мнений высшего света, погрязшего в интригах и масонских заговорах, не смогла по достоинству понять и оценить Лермонтова также, как и Пушкина.
«Я думаю, что у поэтов есть что-то общее с пророками, – отмечает председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. – Неслучайно наши два великих поэта обращались к образам пророков. Причем, если Пушкин взял за основу образ пророка Исайи, то Лермонтов избирает другой образ из Библии – пророка Елисея, который был гонимым и над которым смеялись дети. И неслучайно Лермонтов вслед за Пушкиным говорил о пророческом призвании поэта. Он писал: «Не смейся над моей пророческой тоскою…».
Пророки – это те люди, через которых Бог говорил с людьми. Наши великие поэты и писатели (здесь нельзя не вспомнить Достоевского, который совершенно очевидным образом обладал пророческим даром), конечно, тоже были людьми, которым Бог что-то открывал. Несмотря на их личную греховность, несмотря на их интерес (как у Лермонтова) к демонической тематике, на их падения и взлеты, которыми сопровождалась вся их жизнь, Господь даровал Божественную окрылённость их творчеству, чтобы мы научились верно и твердо воспринимать и постигать священную силу их вдохновения»1.
…Пройдёт 7 лет после паломничества в Троице-Сергиеву лавру, и Лермонтов напишет всколыхнувшее всю Россию стихотворение «Смерть поэта» – на известие о гибели Пушкина.
В его обличительных гневных строках Михаил Юрьевич смело заявил светскому обществу то, о чём не смели говорить даже друзья погибшего первого поэта России. В заключительных строках «Смерти поэта» Лермонтов грозил всем, кто был повинен в гибели Пушкина, страшным судом:
<…> Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата <…>
Литерные критики, его современники, отмечают, что Лермонтов ворвался в отечественную лирику как наследник Пушкина.
А высший свет невзлюбил Лермонтова. Вместо почестей ему был уготован «кремнистый путь», первая, а за ней вторая ссылки на Кавказ, откуда он уже не вернулся.
***
В 1842 году Елизавета Алексеевна Арсеньева, бабушка Лермонтова, позаботилась о том, чтобы сохранилась молитвенная память о внуке.
В память о Михаиле Юрьевиче, погибшем здесь на дуэли, она прислала из далёких Тархан в Пятигорск в Скорбященскую церковь старинную дорогую икону Божьей матери «Всех скорбящих радость».
Чудесным образом эта икона, датируемая XVIII веком, сохранилась до нашего времени и теперь находится в Свято-Лазаревском храме на старом пятигорском кладбище2. Перед святыней можно помолиться о упокоении души великого поэта.
***
«Особую роль в поэзии Лермонтова играют исповедально-молитвенные мотивы, – отмечает митрополит Иларион. – У него есть несколько прекрасных стихотворений с одним названием «Молитва», в которых он отражает и свой опыт молитвы, и говорит о взаимоотношениях с Богом не просто в некой риторической форме, но раскрывает интимно-духовные отношения личности к Богу. Именно человеческие, душевные и сердечные тона «Молитвы» определяют характер религиозного чувства поэта»3.
Вспомним некоторые стихотворения Лермонтова, исполненные тёплого религиозного чувства:
По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел,
И месяц, и звёзды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов,
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.
Он душу младую в объятиях нёс
Для мира печали и слёз;
И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
(Ангел, 1831)
<…> Заботой тайною хранима
Перед иконой золотой,
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой!
Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, символ святой…
Все полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой.
(«Ветка Палестины», 1837)
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Тёплой Заступнице мира холодного.
Окружи счастием душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.
Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную.
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.
(Молитва /«Я, Матерь Божия»/, 1837)
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко –
И верится, и плачется,
И так легко, легко…
(Молитва /«В минуту жизни трудную»/, 1839)
<…>Молитву детскую она тебе шептала,
И в знаменье креста персты твои сжимала,
И все знакомые родные имена
Ты повторял за ней, – скажи, тебя она
Ни за кого еще молиться не учила?
Бледнея, может быть, она произносила
Название, теперь забытое тобой...
Не вспоминай его... Что имя? – звук пустой!
Дай Бог, чтоб для тебя оно осталось тайной.
Но если как-нибудь, когда-нибудь, случайно
Узнаешь ты его – ребяческие дни
Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!
(Ребёнку, 1840).
Это – жемчужины русской поэзии, отразившие наиболее ярко молитвенное состояние души Михаила Юрьевича.
«Проходят годы, – отмечает Мануэлла Дамианиди, – время не властно над поэтом, чем больше проходит перед нами поколений, которые примеряют к себе его бессмертную «Думу», тем больше восхищаемся мы высокодуховными творениями Лермонтова: «И скучно, и грустно», «Выхожу один я на дорогу», «Завещание», «Молитва странника»:
<…>Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит<…>.
Такие стихи мог написать, несомненно, религиозный человек, который знал, что «Спит земля в сиянье голубом…». И сколько бы не прошло лет, гений М.Ю. Лермонтова живёт, и будет жить вне времени и вне пространства»4.
«Тёмный дуб склонялся и шумел...» – тоже пророческая строчка Лермонтова. И мы, как тот дуб в Тарханах, посаженный бабушкой поэта, склоняемся перед памятью русского гения, молимся о нём, читаем произведения Михаила Юрьевича, передаем следующим поколениям его духовное наследие.
1 Поэзия Лермонтова бессмертна! - Там же
2 Дамианиди М. Ф. Свято-Лазаревский храм. М., Изд-во «Гелиос-АРВ», 2005
3 Поэзия Лермонтова бессмертна! - Там же
4 Дамианиди М. Ф. «В минуту жизни трудную…». Там же