«Это тяжело, но мы должны знать, как это было…»
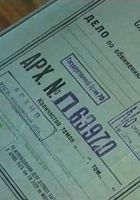
Разумов А.Я.
Анатолий Яковлевич Разумов – историк и археолог по образованию, окончил в 1978 году Ленинградский университет. Уже более 35 лет работает в Российской Национальной Библиотеке, возглавляет Центр «Возвращенные имена». Занимается составлением книги памяти о репрессированных и прежде всего о расстрелянных. Эта многотомная серия называется «Ленинградский мартиролог», поскольку посвящена, в основном, периоду жизни нашей Северной столицы, когда она носила имя Ленинград, но завершающий том данной серии будет называться «Петроградский мартиролог» и включит в себя сведения о репрессиях с 1917-го по 1923 год. Предлагаем вниманию наших читателей выступление Анатолия Разумова на вечере, посвященном памяти священномученика Серафима (Чичагова) и всех Новомучеников и исповедников Церкви Русской, состоявшемся в храме Благовещения Пресвятой Богородицы 21 декабря 2014 года.
А могло ли все пойти по-другому?
– Считаю себя свидетелем исследования советского Архипелага ГУЛАГ, – говорит Анатолий Яковлевич, – потому что прочитал сотни, даже уже, наверное, тысячи архивно-следственных дел и документов о расстрелах, исследовал все предписания на расстрел, акты приведения приговоров в исполнение, служебные записки о расстрелах в Петрограде–Ленинграде с 1918-го по 1941 год.
Мне посчастливилось беседовать о «Таганцевском деле», одном из крупнейших фальсифицированных дел советского времени, с Кириллом Владимировичем Таганцевым и Львом Николаевичем Гумилевым – сыновьями расстрелянных по этому делу.
Посчастливилось просить Дмитрия Сергеевича Лихачева о предисловии ко второму тому «Ленинградского мартиролога», показывать ему расстрельные Соловецкие списки и беседовать о расстрелянных соловчанах.
Посчастливилось работать с Александром Исаевичем Солженицыным над именным указателем к его «Архипелагу ГУЛАГу»; с 2007 года книга выходит с именным указателем.
Несколько лет назад во время работы меня вдруг посетила мысль: «А могло ли какое-то событие сложиться иначе, могло ли что-то пойти по-другому?» После того, что видел в документах, после того, что видел на раскопках захоронений расстрелянных, долгие-долгие годы подряд, возникло чувство, очень горькое, и оно уже не оставит… Думаю, мне уже невозможно представить, что все могло сложиться иначе. Настолько переломалась, переломилась жизнь России – нашей прародины, в которой жили наши предки. Была Россия, которую можно было бы, говоря современным языком, назвать «Россия № 1». После нее была не-Россия – был Советский Союз, который, условно говоря, еще можно было бы назвать Советской Россией, это было государственное образование, которое перешибло, переломило, перебило существовавшую до него Россию. И если условно можно было бы назвать ее «Россией № 2», то сейчас мы с вами переживаем период «Россия два с плюсом». А вот будет ли «Россия номер три», и какой она будет, в какой-то, пусть даже и небольшой, степени, но зависит от каждого из нас. Верю в это. Но это еще зависит и от того, как мы будем помнить все, что произошло. Без этого, убежден, нам нет дороги. И книги памяти, которые мы создаем, пусть маленький, но вклад в большое дело.
Мы начинали создавать книги памяти 25 лет тому назад с огромным энтузиазмом. В каждом регионе нашей страны были такие энтузиасты. Многие из нас думали, что, как только мы обнародуем, опубликуем все эти ужасы, все имена, как только люди это прочтут, – произойдет что-то невообразимое: все поймут, как это страшно, и будет уже невозможно произойти ничему подобному. Этого не случилось. Через несколько лет мы стали понимать, что это, конечно, были наивные мысли. Но мы работаем, мы продолжаем свое дело для того, чтобы передать знания о страшных событиях, люди должны их знать. Мы делаем, что можем, а остальное за пределами наших сил.
В России и Ближнем Зарубежье изданы сотни и сотни томов книг памяти. Книгами памяти мы называем книги, в которых есть ряды биографических справок, имен репрессированных, а также биографии, сопроводительные материалы, документальные материалы. Примерно, около 2000 томов уже издано таких книг памяти, и в них названы, думаю, сейчас более 3 млн. имен репрессированных, и это еще не все: впереди большой путь, и сколько сил хватит, мы будем по нему идти.
То, над чем я работаю, называется «Ленинградский мартиролог». Издано 12 томов, в них помянуты около 50 тыс. человек, приговоренных к расстрелу, расстрелянных или по какой-то причине не расстрелянных, а так же их репрессированных родственников.
В каком-то смысле матерью всех современных книг памяти, мартирологов, я по-прежнему считаю «Архипелаг ГУЛАГ». Эту книгу можно назвать предшественницей жанра, в ней, в общем, уже все есть: ряд имен репрессированных, включены семейные и лагерные предания, документальные и книжные материалы. Правда, в небольшой мере, потому что в то время они были еще недоступны, так и сам Александр Исаевич говорил, что опубликовал то, что можно было. Автор дал очень точный подзаголовок своему произведению – «Опыт художественного исследования». Как опыт художественного исследования и как общий взгляд, несмотря на какие-то вполне естественные неточности, незнания, эта книга до сих пор остается верной. За последние годы, за четверть века, изданы целые тома документов о репрессиях. Историки не успевают их осваивать, не говоря уже о простом обывателе. В целом картина видна, картина ужасная. Одни ее принимают и пытаются что-то понять, другие не хотят принимать и понимать. Водораздел между одними и другими почти так же серьезен, как тот раздел, о котором говорила Анна Ахматова в середине 50-х годов: сейчас из лагерей вернутся сидевшие, и та Россия, которая сажала, посмотрит в глаза той России, которая сидела. Так думала Ахматова. Это должно было произойти, но этого и тогда не произошло, этого, по большому счету, и до сих пор не произошло.
Поэтому у нас одни будут шутить: «Все занимаетесь вашими мартирологами?» – «Носить вам, не переносить» – «Кого вы там еще раскопали?..» – неуместные шутки любого рода можно услышать и от своих коллег, и от других сограждан – от кого угодно, от людей любого слоя населения современной России. И, с другой стороны, – есть страх, подавленность тех, кто понимает глубину трагедии. По сути, в прошлом веке, конечно, нашу страну постигла тяжелейшая катастрофа, и мы все с вами, все, живущие здесь, все, оставшиеся жить после катастрофы, казалось бы, должны все помнить и держаться за руки, помогать друг другу, но этого пока не происходит…
Все ли документы доступны?
К настоящему времени мы исследовали массу документов, массу архивно-следственных дел. Мы нашли за эти годы и раскопали ряд могильников. Как археолог, я принимал участие в исследовании Бутовского полигона. Скажу несколько слов о том, что мы там увидели.
Я многие годы занимаюсь исследованием Левашевского мемориального кладбища под Петербургом – крупнейшего расстрельного могильника НКВД–НКГБ–МГБ. Я побывал на ряде других могильников, таких же больших и таких же известных. Буквально в этом году и уже не первый раз побывал в Быковне, под Киевом. Таких могильников много, они были около каждого административного центра.
Прочитано, изучено и опубликовано множество документов. Но, наверное, сейчас лучше было бы поговорить не о том, что мы сделали, а о том, что не сделали, что еще предстоит.
Множество мест погребения расстрелянных не известно. Мы их не знаем до сих пор. Те, кто успели эмигрировать после 17-го года и волной откатились на Запад и Восток, в Харбин и Париж, куда могли, – они обрели могилы, обрели некрологи. Создаются многотомные собрания этих некрологов. Их могилы не забыты. А где наши незабытые могилы? Мы их не знаем. Мы не можем, как правило, индивидуально указать место погребения ни одного погибшего. Почему?
Доступны ли все документы? Недоступны. Убежден в этом как эксперт Федеральной целевой программы увековечения памяти, которая сейчас, можно сказать, приморожена. Убежден, что есть еще документы, которые нам не известны, но которые когда-нибудь мы или наши потомки узнают и, может, мы узнаем еще о каких-то могилах. Что мешает этому? Мешает какой-то психологический барьер. Вчера говорили, что не знаем, а завтра должны сказать, что что-то уже найдено. Это, видимо, очень трудно – взять и открыть скрытое до поры, но ведь Советский Союз был государством учета и контроля. Это пропагандировалось как известная идея одного из злодеев, стоявших у основания государства, и это было воплощено в жизнь. Значит, десятилетиями наблюдали за местами погребения расстрелянных, безусловно, их хранили и как-то отмечали. Да и мы по косвенным данным понимаем, что все это известно и существует. Может быть, то, что нам пока не известно, станет известно позже, из других документов.
Почему мы говорим о 1937 годе как о годе Большого террора? В наше время опубликован и широко известен секретный приказ НКВД №00447 за подписью Ежова, принятый по решению Политбюро ЦК ВКП(б) во главе со Сталиным, о проведении массовой, тотальной карательной операции в 1937 году. Именно поэтому из-за организованной партией и правительством карательной операции 1937 год так жутко запечатлелся в народной памяти.
Следственные дела по образцу
В пятом томе «Ленинградского мартиролога» мы опубликовали дополнительный циркуляр к этому приказу от того же 31 июля 1937 года, больше я нигде не видел публикации этого циркуляра. Согласно циркуляру вместе с приказом из Москвы на места передавались образцы: следственного дела, протокола тройки, шифртелеграммы, пятнадцать бланков оперативной сводки.
Где этот образец следственных дел? К сожалению, мы его пока не обнаружили. Мы только понимали по ходу исследования, что все дела похожи – как под шаблон, как под копирку, с одними и теми же дурацкими вопросами: «Так Вы признаете?» – «Так Вы не признаете?» – «Наше следствие еще покажет…» – «Мы Вам еще предъявим…» А в следующем протоколе: «Вот теперь Вы признаете?» – «Теперь признаю». Это из образцов, конечно, почерпнуто и сочинено следователями. А мы, читающие теперь лживые тексты, пытаемся судить о том, как человек себя вел на допросе: «как он мог», «что он мог»… Неужели эти образцы дел уничтожили, неужели ни один не сохранился?!
Протокол тройки – с ним проще, даже если и нет образца. Все протоколы заседания тройки абсолютно одинаковы, и по ним мы теперь можем судить, как выглядел этот образец – идентично. А образец шифротелеграммы мы опубликовали – он сохранился вместе с циркуляром в архиве Петербургского управления госбезопасности. К приказу 00447 прилагался образец шифротелеграммы, которую надо было посылать каждые пять дней – то есть каждую пятидневку в Москву отправлять телеграмму с отчетом: за время с такого-то по такое-то число арестовано столько-то человек, из них кулаков – столько-то, других контрреволюционных элементов – столько-то, осуждено по первой категории, то есть к расстрелу, – столько-то, по второй категории, то есть лагеря и тюрьмы, – столько-то, выслано членов семей – столько-то. И это каждые пять дней!
Мы работаем и над материалами к «Петроградскому мартирологу», то есть о Красном терроре. Получилось так, что постепенно идем в исследовании от Большого террора к Красному. …Сейчас уже довольно много стало понятно, мы видим по раскопкам, по документам, что типологически эти явления абсолютно близки. Просто от Красного террора до Большого надо было стране сделать один-два-три шага, за которые была погублена масса людей.
Странно, но до сих пор бытуют противоречивые мнения по этому поводу. Одни считают, что сначала была настоящая революционная законность, было больше правильного, хорошего, а вот уже в сталинское время, 1937 год, – вот это были ужасы, искажение революционной законности и так далее. У других обратный взгляд – ужасы были в революционное время, а в сталинское время уже действовало право, уголовный кодекс, уже дела идут по статьям уголовного кодекса, судят, и за каждым есть вина. Однако надо твердо понимать, что огромный страшный террор 1937–1938 годов, когда за полтора года в стране были расстреляны, согласно исследованиям и официальным данным, примерно 800 тыс. человек, парализовал все население.
Тотальная фальсификация
Что касается архивно-следственных дел времени сталинского Большого террора – то это есть полная тотальная фальсификация. Дела нужны были только для «бухгалтерского» оформления осуждения людей по первой или второй категории.
Основным мотивом для ареста во время карательной операции было – состоял ли человек на учете в органах ВЧК–ОГПУ–НКВД в предшествующее время: за свое социальное происхождение, политическое прошлое; за фигурирование в списках лишенных избирательных прав; за занятие торговлей; за активное участие в церковной жизни; за то, что он где-то говорил неосторожные вещи, а они были зафиксированы осведомителями органов госбезопасности. Не надо гадать, не надо искать мифическое какое-то население, которое это все организовало, – все было организовано государством, начиная с того, что оно за недоносительство преследовало граждан, и кончая тем, что в каждом учреждении были свои отделы, которые занимались слежкой за гражданами. Все было подконтрольно, были секретные осведомители, естественно, все фиксировалось, и на кого находился компромат в предыдущие годы, все это бралось во внимание.
Почему именно 1937 год?
Что такое 1937 год? Почему о нем Солженицын как послевоенный лагерник пишет в «Архипелаге», мол, как говорят старые лагерники, как будто сразу, в одну ночь по всему Советскому Союзу прокатились аресты, и самое тяжелое время началось в августе 1937 года.
Правильно, очень точно говорили эти старые лагерники. Пятого августа 1937 года началась тотальная операция. Каким образом она началась? Почему именно 1937 год? 1937 год – это был год юбилея. В этом смысле все достаточно просто, формальные основания лежат на поверхности, и они ясны. 1937 год был годом 20-летия октябрьской революции и годом окончания второй пятилетки, в задачи которой было поставлено освобождение страны от остатков прежде господствующих классов. Это были такие бумажные теоретические формулировки, и никто не понимал, что они будут буквально физически проведены в жизнь. Однако именно так и случилось.
В 1936 году была принята сталинская Конституция, назначены всеобщие выборы в Верховный Совет, и руководство партии и государства решило очистить одним махом в течение 4-х месяцев перед выборами всю страну от неблагонадежных, от всех, кто состоит на учете в НКВД, расстреляв либо отправив в тюрьму. Именно в связи с этим и были созданы специальные могильники, поскольку до лета 1937 года можно было аккуратно и достаточно тайно прятать по ночам по городским кладбищам десятки и сотни расстрелянных. Теперь потребовались специальные могильники, были созданы «Коммунарка» и «Бутово» под Москвой, «Левашово» под Ленинградом, «Быковня» под Киевом, «Куропаты» под Минском, «Дубовка» под Воронежем, «Зауральная роща» под Оренбургом и многие-многие другие. К настоящему времени десятки таких полигонов известны и десятки неизвестны, до сих пор не найдены.
Можно ли назвать это следствием?
Можно ли, то, что было 1937–1938 годах, объявлявшееся как упрощенное и ускоренное следствие, вообще считать следствием. Нет, следствием это назвать нельзя. Можно ли назвать приговором массовые приговоры внесудебных органов? Нет, только очень условно, с большой натяжкой. Подсудимые не представали перед судом, хотя следователи их всячески обманывали, когда заставляли, уговаривали подписать хоть что-нибудь во время следствия. Говорили, будет суд и там расскажете правду, а сейчас надо подписать, чтобы разоблачить того-то. Была масса, известных уже теперь, всевозможных уловок. Но подсудимый не представал перед судом. Судили по бумажкам. Подписывал ли и вообще – видел ли подсудимый те протоколы, так называемые протоколы допроса, которые мы, исследователи, или несчастные родственники, теперь видим в этих делах? Часто не видел. Кроме того, существовало несколько приемов подсовывать бумаги для подписи. Например: зачитывается один текст, а подсовывается для подписи другой. Подписывают люди, конечно, уже в тяжелом состоянии, после физических пыток. Или заставляли подписать, не читая, просто на веру: «Ты что, не веришь советскому следователю? Мы об этом говорили, все записали, а ты – подпиши». И так далее, было несколько вариантов.
Штатный специалист по подделыванию почерков
Самые страшные пытки – моральные, когда угрожают расправой над семьей. Но были, конечно, сильные духом, верой, да и просто физически крепкие люди, которые все выдерживали. А если человек ничего не подписывал, тогда был еще вариант, – например, в Ленинградском управлении НКВД в каждом отделе был специалист по подделыванию почерков, и он при необходимости писал, что угодно вписывал, подделывал подписи и так далее. В других управлениях НКВД, более удаленных от центра, не таких, как «город – колыбель трех революций», а, скажем, в Новосибирске были другие методы. Экспертиза более позднего времени показала, что для того, чтобы, где нужно, подделать подпись заключенного под протоколом допроса, брали скрепку, по подписи вминали – знаете, как в школе делают? – на следующую страницу, а потом обводили по этой выдавленной ямке, чтобы подпись была похожа. Основным доказательством «вины» в контрреволюционных преступлениях было «признание». Добейся признания – и все. Добивались разными способами, были и следователи, и палачи-садисты. И вот в итоге этого безумия мы раскапываем сохранившиеся могильники.
Никто из нас, кто начинал раскапывать фрагмент траншеи «Бутовского полигона», не предполагал, что мы раскопаем такое, и не все археологи смогли продолжить участие в этих раскопках, тем более, что там суглинок и довольно хорошая сохранность останков.
Подготовила Петрова Т.В.
Фото с сайта: co6op.narod.ru



